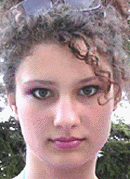
НИ-КОМУ-НИ-ДЕЛЬНОСТЬ
* * *
Никто. Никуда. Не делся.
Подмостки все те же. Те же.
Я всё продолжаю бегство
по красному льду манежа.
Призывно стучу копытом.
Глаза раскрываю шире.
— Пустите меня на выход.
«Пустите меня!» — пустили.
Пустили — и воздух мятный,
Пустили — и ветер свеж...
— Возьмите меня — обратно!
Верните меня — в манеж!
* * *
Здесь всё притворяется мнимым,
здесь всё притворяется мной.
Жизнь пахнет деревней и дымом,
Жизнь пахнет бульваром и хной.
Здесь каждый навеки случаен,
Здесь каждого бьют напрокат.
Жизнь пахнет свечами и чаем.
Здесь ждут, и живут, и гостят.
Жизнь пахнет... Да чем? не спросили б!
У каждого свойский уют.
Без запаха только Мессия,
которого здесь — продают.
* * *
И кого мне теперь вспоминать?
Не спросили меня, не спасти ли.
Не спросили, когда на кровать
твои руки другую вносили.
Не спросили, когда признавал.
Хотя в принципе может быть хуже.
Ты не поезд. И я не вокзал,
чтобы ждать не-прихода на ужин.
Бог устал — и у Бога дела.
Ночь светла, как пролитое масло.
Ухожу,
оставляя слова,
заменяя столовое - красным.
Разговор со смертью
Лужи.
Ветер.
Снова лужи.
Никого.
У смерти насморк.
У нее промокли уши.
У нее украли паспорт.
Смерть молчит,
до слез ревнуя.
Прячет мерзлую макушку.
— Слушай, смерть, а может ну их...
Выпьем с горя.
Как там Пушкин?
Как там Лермонтов — и Бродский?
Что Некрасов?
Всё играет?
Матч «Есенин-Маяковский»
неужели продолжают?
...Смерть задумалась,
кокеткой
примостилась на груди.
И сказала:
— Знаешь, детка,
доживи до двадцати.
* * *
Как много лирики!
Как странно
читать ее, когда простишься.
И слушать музыку дивана,
скупее, чем
церковной мышью
съедать остаток сожалений...
Как много лирики!
Из лени
любовь рождается,
из скуки.
А после надоеда Врубель
её рисует в исступленьи.
Как много лирики!
Я — гений?
О нет,
тот гений,
кто заставит
сквозь слабость «быть»
и сладость «править»
звучать бубенчик колокольней.
Как много лирики!
Как... больно...
|


